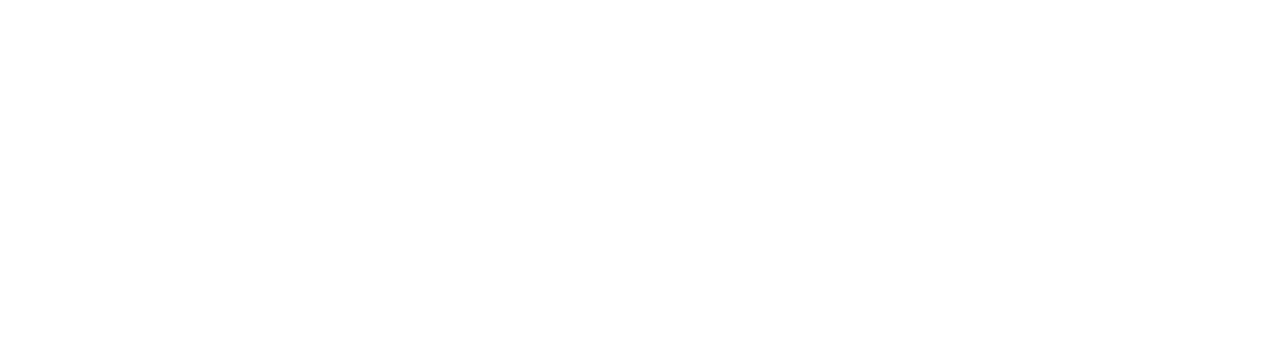Заглавие этой работы отсылает к лозунгу над воротами Освенцима. Но, может быть, это общая идея буржуазного мира? Работа кормит, учит, обеспечивает все условия существования и развития инфраструктуры, социализирует, наконец, спасает душу — как в понимании религиозного протестантизма, так и в понимании психиатрии (здоровый человек трудоспособен)? Или работа убивает, калечит, отнимает в сумме всех потраченных трудовых часов годы жизни, отупляет, извращает человеческие отношения и уничтожает окружающую среду? Как работа распространила своё влияние на ключевые моменты наших жизней, стала не только основанием экономики, но корневым кодом культуры, политики? Какие альтернативы работе предлагает современная критическая общественная мысль?
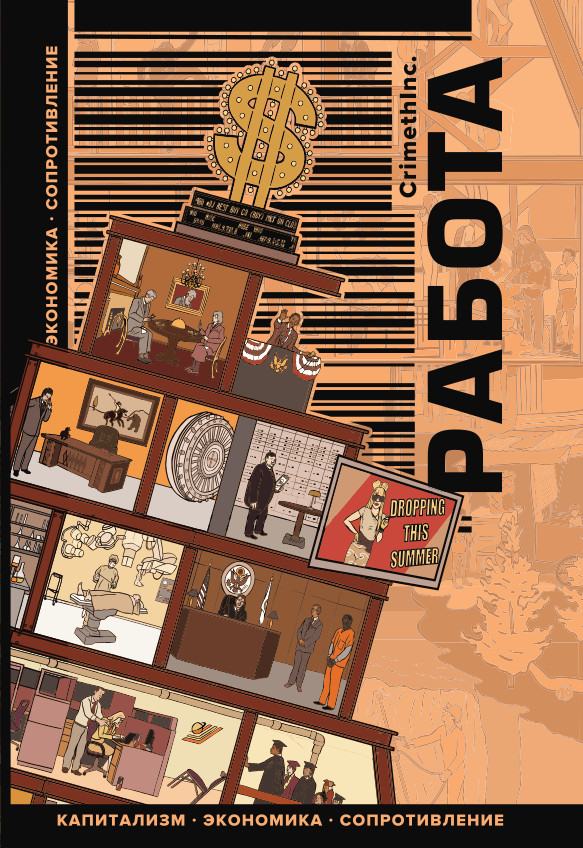
Работа. CrimethInc
Значительная часть наблюдений, вошедших в эту статью, была рождена как ответ и рецензия на книгу коллектива CrimethInc «Работа. Капитализм. Экономика. Сопротивление». Переведённая и изданная на русском языке издательством РТП (Радикальная Теория и Практика) ещё в 2011 году, книга и сейчас пользуется спросом у читательской аудитории. Один из петербургских книготорговцев отметил, что доступный язык и изобилие иллюстраций сделали книгу популярной среди хипстеров. Впрочем, для молодой богемы не только форма, но и содержание книги — идея отказа от работы, — выглядят заманчивым приглашением в анархизм. Краймфинкеры также называют себя «коллективом бывших работников». Все сочинения CrimethInc предполагают открытость для интерпретаций, дополнений, которые сделали бы книгу актуальной в текущем политическом контексте. Сперва я предполагал написать рецензию на «Работу» краймфинкеров в актуальном контексте, подчеркивая и дополняя то, что в ней написано, тем, чего в ней нет, но что иллюстрирует или опровергает идеи книги. Мысли и наблюдения копились медленно, а вот историческая ситуация перевернулась стремительно. Ещё недавно, в год издания, книга читалась бы здесь, в России, не более чем как опровержение и без того слабого официозного мифа об «уралвагонзаводе» и честных тружениках, солидарных с неутомимыми бюрократическими трутнями. Сегодня же, посреди нарастающей истерии шовинизма, критика работы звучит как вызов ключевым ценностям буржуазного общества, самим основаниям системы, воспроизводящей наши военные будни. Стало понятно, что необходимо представить критику наёмного труда во всем идейном разнообразии с предложением всех возможных альтернатив, выйдя за рамки жанра рецензии. Лишь анализ множества активистских практик, научных данных и философских идей, связанных с работой, может позволить совершенно иначе осветить современные проблемы общества, открыть горизонты, за которыми возможно увидеть реальную социальную альтернативу.
Что такое работа?
То, что работа нужна, даже необходима, — мысль почти общепризнанная и, кажется, очевидная. То, что работы могло бы быть гораздо меньше, что она могла бы занимать куда меньшее количество нашего времени, неоднократно и убедительно доказано (вопреки убежденности российских либералов в том, что люди как раз мало работают). То, что функционирование нашей индустриальной системы создаёт так называемые рабочие места, также кажется общепризнанным, хотя количество безработных неуклонно растёт в мировых масштабах (взаимосвязь этого процесса с механизацией труда также спорна). То, что понятие «работа» подразумевает и физическую величину (механическая работа), и социальное явление, общеизвестно, но связь этих двух явлений кажется совершено не ясной, когда мы подразумеваем работу клерка, менеджера, политика: каковы те тела, к которым прикладывается сила, и на какое расстояние они перемещаются, если речь идёт о ментальных категориях, о смыслах, а не о телах-документах, перемещаемых по офису? Все эти парадоксы только оттеняют тот главный вопрос, которым стоило бы задаться: что есть работа? CrimethInc с первых страниц своего памфлета пытаются ответить на него отстранённо-нигилистически, «сделав шаг назад и окинув взглядом контекст, в котором люди работают»: работа для коллектива черных писателей является деятельностью, направленной на поддержание экономики. Это предельно общее определение трудно оспорить, и оно, хотя и не содержит оценки, не теряет пропагандистский запал. Работа определяется и осуждается разом как нечто, что делает нас всех ресурсом, объектами экономики, используя популярную в среде поклонников идей краймфинкеров лексику — «винтиками системы». Отбросив язык агитации, можно сказать, что сложно дать однозначное определение работы как социального явления — как и определение любого явления, внутри которого находишься. Работа кажется прагматичным явлением. Но с ней связано такое разнообразие мифологических и идеологических представлений и предрассудков, что сложно разглядеть его суть под слоем обмана и заблуждений.
Критика работы сталкивается с недоумением «но что же, если не работа?». Что удовлетворит наши потребности? Что же будет, если люди не будут работать? Как им не умереть от голода и не истребить друг друга? Этот вопрос выдаёт ограниченность нашего опыта или нежелание, неумение замечать любые другие практики и формы жизни. CrimethInc, а с ними и большая часть критиков работы, противопоставляют ей образ жизни первобытных людей или наблюдения за дикой природой. Иногда это скорее не наблюдения и образы жизни, а образы из жизни и наблюдений — это вовсе не научные концепции, а набор заманчивых романтических, увлекательных, остросюжетных или сентиментальных идиллических картин. Иногда, вырванная из контекста этнографических материалов, практика безденежного обмена, взаимного дарения поднимается на знамя как образец альтернативной экономики. Иногда критиков работы вдохновляет то, как много внимания уделяют удовольствию общества, живущие вне влияния капитализма. Эхом сексуальной революции звучат проклятия мобилизации всей человеческой энергии на производство, проклятия фрустрации от захвата потреблением всех человеческих мыслей и желаний. Даже склонность хищников играть со своими жертвами порой объясняется как способность живых существ уделять равное внимание развлечению и удовлетворению потребностей. Но при всей своей карикатурности, агитационная культура (по сути субкультура молодёжи) памфлетов, листовок, публицистических статей опирается на огромный корпус источников. Главное, что можно сказать, анализируя наблюдения за животными, первобытными обществами, всевозможными социальными экспериментами исторического, письменного времени, — человек не сводится к работе, человек не обязан своим существованием работе. Или человек обязан существованием не только работе. Иногда человек существует вопреки работе — во всех смыслах вопреки.
Люди, согласные с работой, включенные в порядок дискурса работы, не видят ей никаких альтернатив. Радикалы, попытавшиеся выйти за рамки экономически-подчинённого мышления, оказываются пёстрой ордой, осаждающей крепость капитализма с разных позиций. Некоторые критики работы полагают её неизбежной, но справедливо рассчитывают сократить её к минимуму, рационализировав процесс создания и распределения благ. Немногочисленные технократы предлагают перепоручить всю работу машинам. Противоположный выход видят примитивисты, сторонники полного разрушения техники и цивилизации, возвращения к «истокам», к гармоничному сосуществованию с природой. В равной степени враги цивилизации клеймят все аспекты системы дисциплинированной, регулярной трудовой деятельности — будь то сельскохозяйственное производство, рутина промышленного конвейера или офисная суета. Последние настроения, как ни странно, оказывают весьма существенные влияния на современный левый радикализм, например, им в значительной степени вдохновляется повстанческий анархизм. Примитивизм влиятелен, хотя и не последователен, и буквально отказывается отвечать на массу вопросов относительно перспектив человечества и методов борьбы за свой идеал.
Вернёмся к определению работы. Два момента разоблачают её неоднозначную природу. Первый — производство. В СССР развернулась дискуссия вокруг сути труда, вокруг его «информационной природы» (по определению академика В.А. Трапезникова [1]). Суммарные физические усилия, прикладываемые к машинам и инструментам рабочими, ничтожно малы в сравнении с интеллектуальными «информационными» усилиями по их эксплуатации. Дискуссия на этом рубеже марксистской социальной философии породила нечто вроде апории Зенона, в определении этой неуловимой границы. Мысль буржуазная, либеральная, удовлетворена такими затруднениями своего закадычного врага: рынок труда красноречиво объединяет различные виды деятельности под общим словом «менеджмент» (управление).
Второй момент — потребление. Экономист Ларан Кардонье на страницах Le Monde diplomatique пишет о потреблении как о работе: современный человек тратит так много времени и внимания на изучение страниц интернет-каталогов и перемещение по пространствам гипермаркетов, что его участие в дистрибуции товаров подлинно можно назвать работой [2].
Если сложно очертить границы неоднозначного явления, стоит ли говорить, что суть его неуловима? Раз уж нам сложно сказать, вот это уже работа, а это ещё не работа? Будем исходить из того, что сам наш понятийный аппарат не совершенен, он создан той системой, которая маскируется за мишурой идеологии. Уместно вспомнить афоризм, приписываемый А. Эйнштейну: «что может знать рыба о воде, в которой плавает всю жизнь?» [3]. Но следует знать, что, в отличии от рыб, люди способны вынырнуть из мира труда. «Работай!» — говорят нам родители, школа, ВУЗ, техникум, учитель, надзиратель, начальник, менеджер, нужда, жажда прибыли, многообещающая реклама, отчаяние или невежество — вся дисциплинарная система. «Я работаю, как раб на галерах» — не стесняется сказать и В.В.Путин. Работа — термин не совершенный. Но его похищение из мира идеологии сулит интересные эффекты. Гегель сказал, что в его времена утреннюю молитву заменила утренняя газета. Утренняя молитва современного петербуржца сводится к фразе «работа» или «работа для вас» — такие заголовки на кипах бесплатных газет встречают выходящих из метро женщин и мужчин. Эта фраза действительно звучит как молитва — пароль к спасению, выживанию и осмыслению себя в мире. Почему бы и не признать работу символом веры нашего времени? Пусть либеральная мысль усердствует, объединяя под одним протестантским символом веры всякую деятельность человека в качестве работы — будь то физический или творческий труд, управление (лишь бы приносило прибыль). Пусть марксистская и анархо-синдикалистская традиции разделяют труд и капитал линией фронта из баррикад и забастовок (хотя в мире консьюмеризма рабочие зачастую мечтают быть буржуазнее самой буржуазии). Оставим эти идеологические конструкции. Если предоставить слово самой работе, она, должно быть, скажет нам: «я есть путь и истина, и жизнь…» И мы не обязаны ей верить. Социальный ритуал продажи труда — времени, сил, эмоций, здоровья — за деньги вызывает всё больший скепсис.
«Мы просто хотим жить и работать…» [4]
Видеоролик, снятый вооруженными сторонниками непризнанной Донецкой Народной Республики, запечатлел сцену допроса раненного военнопленного украинской армии Андрея Панасюка. Это видео стало популярно в блогах и на страницах соцсетей как приверженцев ДНР/ЛНР и русской ирреденты, так и в аналогичных источниках сторонников киевского режима и/или Майдана, среди противников русской интервенции — словом, оба пёстрых лагеря ссылались на этот красноречивый документ эпохи. Оппонирующие стороны указывали или на жестокость самого факта допроса раненного пленного, или на милость вооруженных победителей… В обоих случаях от внимания комментаторов, кажется, ушло важное обстоятельство. На второй минуте, восемнадцатой секунде видео один из допрашивающих ДНР-овцев говорит пленному: «Послушай, друг, когда мы отпустим тебя передай своим землякам, мы на своей земле, мы просто хотим жить и работать». В ответ пленный, плача, произносит: «Да, я тоже хочу жить и работать» (для тех, кому не безразлична судьба Андрея Панасюка, ему была оказана медицинская помощь и он был возвращен ДНР-овцами родным в процессе освобождения военнопленных).
Конечно, это не чистая игра: диалог вооруженного человека и разоруженного раненого — диалог явно не равный. И любая истина будет здесь принята и воспроизведена под дулом автомата. Авторы видео, конечно, пытались показать и свою человечность, и одновременно своего врага в унизительном положении, вдохновить «своих» и деморализовать «чужих» и убедить их в своей правде. В этой драме есть важный момент: реплика «жить и работать» — явный ключ к сердцу и военнопленного Панасюка, а через него к сердцам зрителей. «Мы просто хотим жить и работать» равно «мы с тобой одной крови, ты и я». Паче чаяния, оба занимаются чем-то противоположным. Войной.
Война и мир в идеологии буржуазного общества — два принципиально противоположных состояния. Война должна быть вынесена за рамки быта. Война отэкранирована плоской мерцающей поверхностью плазмы телевизора или монитора — вынесена за рамки «своего», «мирного» быта — она явлена чередой кошмарных образов, и ни в коем случае не присутствует здесь, в «нашем», «реальном» мире. Такова война в идеологии буржуазного общества. Что же тут, казалось бы, удивительного, разве не хотели бы граждане какого угодно другого общества жить в мире? Ответ на этот вопрос далеко не так очевиден. С одной стороны, большинство обществ, если даже и проводят значительную часть своей истории в состоянии конфронтации — внутренней, гражданской или внешней — всё же стремятся взять для себя за образец, за цель именно некую модель мирного существования.
В 2011 году один из моих белорусских товарищей, комментируя состояние гражданского движения того времени у себя на родине, пытался объяснить, почему в их обществе, пораженном тяжелейшим экономическим кризисом, протесты, несмотря на репрессии, остаются мирными, всё более эффективно подавляются и всё меньше поддерживаются: «Ой, у нас у большей части населения философия простая: “Хай бы всех перестреляли, лишь бы не было войны!”» Это далеко не простая карикатура на мещанство, но вполне справедливая картина нравов. Во-первых, мещанин весьма воинственен в своём желании любой ценой сохранить свой мир, статус кво. Во-вторых, структуры войны и мира вовсе не так противоположны, как людям порой хочется верить. Мишель Фуко озвучивает противоположное мнение: «В силу этатизации, в силу того, что война оказалась деятельностью, осуществляемой за пределами государства, она стала профессиональным делом тщательно отобранного и подлежащего контролю военного аппарата. Происходило, грубо говоря, становление армии, института, которого, по сути, не было в качестве такового в средние века. Только в конце средневековья можно видеть возникновение государства, наделённого военными институтами, пришедшими на смену повседневной, глобальной практике войны и обществу, пронизанного военными отношениями…» [5].
Армии буржуазного времени имеют серьёзные отличия от армий феодальных и всех прочих армий, действовавших в добуржуазную эпоху. Именно об этом и говорит Мишель Фуко в курсе лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975‒1976 учебном году [6], развивая мысль о том, что изменения в политической, социальной и экономической структуре общества тесным образом связаны с изменениями в структуре войны. Военная организация, структура армии, способы вербовки солдат и формирования командного состава — всё это связано с общественным устройством. Армия буржуазного государства связывает своё право на насилие с обороной гражданской нации. То есть не с интересами аристократии или какой-то династии, не с вопросами господства какой-то конфессии. А именно с вопросом выживания нации.
Стоит обратить внимание на то, как допрашивают ДНР-овцы пленного Панасюка:
«…С каким заданием?»
«Сказали защищать родину…»
«От кого?»
«Сказали защищать родину от чеченцев»
«Встретил тут хоть одного чеченца?»
Чеченцы упомянуты здесь не случайно. Этот «диалог» — результат работы двух противоборствующих пропагандистских машин. Киевская сторона видит в своих оппонентах исключительно проект Кремля, спецслужб России, которые посылают наёмников, в частности боевиков, из числа кадыровцев. Донецкая же сторона пытается выставить себя именно как продукт волеизъявления народа, стихийно провозгласившего на митингах и подтвердившего на референдуме своё право на самоопределение. Давайте оставим за рамками обсуждения всю эклектику и разнообразие взглядов на «Новороссию», т.н. «русский мир» — будь то мечта о федерализме Украины, воссоединение с Россией по образцу Крыма или что-то ещё — в любом случае это «что-то ещё» относительно украинского национально-государственного проекта должно исходить от самих жителей Донбасса. Участие в гражданской войне третьей стороны — это аргумент против легитимности самого проекта «Новороссии»: о каком самоопределении может идти речь, если государство создаётся извне. Но упомянуты не просто «чужие», не просто агенты ГРУ или наёмники, речь идёт именно о чеченцах. Сведения об участии на стороне ДНР/ЛНР кадыровцев, в частности в известном батальоне «Восток» — особо весомая карта в идейном споре вокруг судьбы Донбасса. Российские СМИ (а украинцы долго были аудиторией в том числе и российского телевидения) и русские националисты при самой широкой поддержке обывателей наградили чеченских мужчин славой абреков и кондотьеров. Мирные трудяги, которые якобы взялись за оружие только благодаря угрозе извне (Майдан, АТО, статус русского языка, пресловутые интересы американского империализма) всячески отрицают присутствие в своих рядах чеченцев. Они совсем не вписывается в концепцию «мы хотим просто жить и работать».
Оглядываясь на Фуко, можно сказать, что общество буржуазное, общество провозгласившее «работай и да спасёшься!», «работай и преуспеешь!» (в конечном итоге «работа освобождает») — это общество появляется прежде всего тогда, когда оборона, а с ней правосудие, управление были вырваны из рук тех, кто считал позором оскорблять эти свои руки работой. В результате великого переселения народов Европа на тысячу лет оказалась поделена между захватчиками, которые, как правило, ставили себя выше населения покорённых территорий. Во Франции они, как известно, даже называли себя «нацией» — той группой, которая имела исключительные привилегии, близкие к правам завоевателей (вспомним право первой брачной ночи, скандальную сатиру на этот обычай написал Бомарше в «Женитьбе Фигаро» незадолго до взятия Бастилии). В обмен на привилегии «нация» аристократов предоставляла военную защиту. Потом эту нацию гильотинировала другая нация — французская гражданская, объединённая буржуазной идеей жизни в труде. Эта схема эволюции, осознанно или в силу своей целесообразности для определённых классовых интересов, стала образцом и ориентиром для строительства и других национальных проектов.
Едва ли боевики ДНР, допрашивающие Панасюка, глубоко знакомы с национальной и классовой историей Европы. Скорее они действуют по наитию, согласно общей логике буржуазного национального строительства. Их желание выставить себя в качестве трудящихся, самостоятельно выработавших свой собственный суверенитет, а значит, имеющих право на самооборону, вполне инерционно и органично (подчеркну — выставить себя!). Желание откреститься от профессиональных наёмников, ставить своего врага в качестве орды так же служит делу пропаганды обоих сторон конфликта. Вспомним, с каким усердием украинские и российские СМИ выискивают сведения о наличии в рядах противника всевозможных кондотьеров.
Страх перед неработающими людьми — не просто рационально обусловленный страх общества тружеников перед нахлебниками, не просто страх добропорядочных граждан перед преступниками или людьми, склонными к преступности в силу своей исключенности из производства. Страх человека, занятого в труде, перед неработающим — это страх власти. Точнее, страх иррационального произвола со стороны инородных и могущественных существ. Это глубоко табуированное явление, корни его — в иррациональном, бессознательном, и впитывается этот страх вместе с ключевыми явлениями культуры. Уместно привести здесь красноречивые слова памфлета «Работа»:
«Уважаемые сотрудники! Перед работой не забудьте умыть руки от ответственности!
***
Рабочие сбрасывают токсичные отходы в реки и океаны.
Рабочие осуществляют массовый забой скота и проводят эксперименты над животными.
Рабочие выбрасывают тысячи тонн съедобной пищи.
Рабочие уничтожают озоновый слой.
Рабочие следят за тобой с помощью камер наружного наблюдения.
Рабочие лишают тебя личных вещей за неуплату штрафов.
Рабочие сажают тебя в тюрьму за неуплату налогов.
Рабочие унижают тебя за невыполненную домашнюю работу или опоздание на работу.
Рабочие передают информацию о твоей личной жизни в базы данных по кредитным историям и досье МВД.
Рабочие выписывают тебе штрафы за превышение скорости и эвакуируют твою машину.
Рабочие руководят ЕГЭ, спецшколами для детей с девиантным поведением и психиатрическими лечебницами.
Солдаты, которые загоняли людей в газовые камеры, получали зарплату,
Как и солдаты, оккупировавшие Чечню, Ингушетию, Ирак и Афганистан,
Как и шахиды, которые их взрывают вместе с собой — они работают на Бога, надеясь на выплату зарплаты в раю».
Итак, людям, которые «просто хотят мирно жить и работать», никуда не деться от неумолимого и очевидного, отчаянно, нелепо скрываемого и тем более скандального факта — они участники войны, они воспроизводят ту систему отношений, которая делает самого человека ресурсом.
«Они не хотят работать»
Война, взятая выше за отправную точку критики работы, имеет свойство разделять людей на своих и чужих. Наши и враги — вот главный пункт идентичности. Каждые несколько лет в России появляется новый националистический тренд — назначается новый внутренний или внешний враг. Сперва это были евреи. Начиная с Первой Чеченской (а ещё более во время Второй Чеченской) войны врагом №1 стали чеченцы. Потом коллективная ответственность за все беды нашего обывателя распространилась с чеченцев на всех кавказцев. Далее главным героем кошмаров нашего филистёра стали приезжие из Центральной Азии. На короткий срок на передний план среди демонов, терзавших воспалённое сознание масс, вырвались гомосексуалы. И вот уже при самой широкой поддержке официозных СМИ главными врагами стали украинцы. Применительно к нашей теме этот хит-парад предрассудков весьма важен. Кажется, между евреем-буржуа и чернорабочим мигрантом из Узбекистана так мало общего. Но, внимательнее приглядевшись к функционированию в обществе подобных идеологических штампов, мы увидим одну общую черту: все они имеют отношение к мифу о работе. «Они не хотят работать» или «они занимают наши рабочие места» — в любом случае националистический стереотип прямо связан с работой. Антисемитизм имел широкое распространение и среди советских граждан (начиная, как минимум, с репрессивной кампании борьбы с «безродным космополитизмом» антисемитизм распространялся не без поддержки режима, столь часто ссылавшегося на словах на свой «интернационализм»), на постсоветском же пространстве он стал отдушиной для растерянных жертв приватизации — ведь еврейскую буржуазию было проще всего обвинить во всех бедах, ничего нового здесь придумывать было не нужно: «они, де, просто не хотят работать, они хотят пить кровь русских людей». Нечто подобное описал ещё в 1945 году Жан-Поль Сартр в «Портрете антисемита». Согласно Сартру, француз чаще всего видит еврея в профессиях, которые сталкивают их лицом к лицу, разделёнными лишь прилавком, витриной, бюро, кассовым аппаратом — в роли буржуа, в сфере услуг. Не будет преувеличением сказать, что в России отождествление еврея с буржуазией — ментальная конструкция, мало общего имеющая с реальностью, но некогда в эпоху разгула приватизации весьма популярная. Классовый ресентимент перевоплотился в националистический.
Сперва чеченцам, а потом и всем остальным этносам Кавказа русская народная молва, с лёгкой руки националистов, приписала то же самое стяжательство, врождённое коммерческое чутьё, страсть к наживе и суетливое выгадывание прибыли — всё это так оттеняло местных/белых/русских (которые, как мы уже имели шанс убедиться, «просто хотят жить и работать»). Приведу здесь несколько примеров из собственной жизни. Ссылка на личный опыт может показаться несовместимой с порядком научного дискурса, но моё собственное бытие в качестве активиста антифашистского движения в обществе, глубоко отравленном национализмом и ксенофобией, было иногда чем-то вроде этнографического путешествия.
«Там есть люди, которые просто хотят работать», — так говорил мне один знакомый после его командировки в Чечню — тогда, в начале нулевых, её только что усмирили. Он знал, что я незадолго до нашей случайной встречи участвовал в пикете против очередного призыва (видел в оперативной съёмке). А я знал, что мой когда-то приятель, выпускник журфака, — теперь сотрудник пресс-службы ГУВД (парню очень хотелось быть «крутым» — каждый принимает мачизм по-своему). Эта неловкая игра в «доброго следователя», попытка влезть мне в душу была исполнена топорно и настораживала. Почему-то именно то, что среди чеченцев есть люди «которые просто хотят работать» должно было найти общие точки в моём и его мировоззрении, выставить его самого, как «нерасиста», тактично выделяющего исключения из целого «этноса головорезов», а также разговорить меня, вызвать на откровенность.
Другой пример относится к этому же времени: профсоюзный активист, человек куда менее правых взглядов, стихийно симпатизирующий левым, но не изживший полностью бытовой ксенофобии, рассказывал, как уважает своего коллегу-чеченца, с которым съел пуд соли: «…но большинство же там другие, у них “чабан” — ругательство, значит если пастух — никуда выбиться не смог, а “абрек” — мужчина, достойный уважения человек».
Нелепость обоих примеров ложного сознания доказывать не стоит. Интерес представляет лишь противопоставление ненавидящего работу врага с нашим мирным тружеником. Мы должны учитывать здесь обратную связь народного творчества и пропаганды, кошмаров разочарованных, дезориентированных людей и властных техник, воспроизводимых через СМИ, через генерируемые события. Эти культурные коды работы хорошо известны и политтехнологам. Вспомним пресловутый «Уралвагонзавод»: в 2011 году власть, испугавшись протестов общества против фальсификации выборов, пыталась найти союзников в среде обывателей через противопоставление себя вкупе с трудящимися массами и либеральной, богемной, бездельничающей, живущей на гранты, развращенной некими европейскими ценностями оппозицией. Нелепый спектакль был выдернут то ли из контекста советской пропаганды, то ли из властного дискурса «младшего брата» кремлёвского режима — лукашенковского постсоветского деспотизма (у которого российская власть, кажется, многому учится). Возможно «Уралвагонзавод» даже стал постановкой того, не менее нелепого, обвинения в «советскости/совковости», «большевизме», какое бросают наши либеральные оппозиционеры Путину. Левым уместно вспомнить здесь процитированный выше отрывок из «Работы» CrimethInc и понять, что рабочие каждый день принимают антисоциальные неолиберальные и репрессивные законопроекты.
Несколько хитрее была стратегия травли трудовых мигрантов из Центральной Азии. Здесь никакие «они не хотят работать» не годились. Рабочие из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана как раз хотят работать. Причем на совершенно нечеловеческих условиях. Тем самым, согласно националистическому мифу, они отнимают у коренного белого большинства сами условия существования, саму основу жизни — работу. И вновь, уже в новом качестве, расистский дискурс вплетает в свои конструкции мифологию работы. Если мифические еврей, чеченец, кавказец играли роль угнетателя, то азиат назывался конкурентом. Азиат стал той мишенью в которую направили свой гнев уже смирившиеся с капитализмом, принявшие его конкурентные и иерархические правила выживания массы местных. И, как и сошедшие со сцены националистического спектакля актёры, исполнявшие врага №1, азиат стал культурно чуждым, исповедующим чужие ценности существом. Практически пришельцем из голливудского фильма.
Даже новейшие тенденции в стравливании русского народа с его мифическими врагами не избежали влияния работы. Сперва — во время Майдана — представители бунтующего общества Украины были названы в официозных российских СМИ наймитами Запада (строго в русле конспирологической концепции). Далее, когда стало ясно, что Майдан не так просто разогнать, когда палаточные лагеря в центре Киева стали осадным лагерем революции, бунтари были объявлены выкормышами олигархии. Разумеется, эти бунтари… просто не хотят работать, им бы только покрушить и пожечь. После победы Майдана и бегства Януковича, разгорается восточно-украинская трагедия: гражданская война на Донбассе. Не будем здесь долго останавливаться на роли кремлёвских и прокремлёвских политтехнологов, военных специалистов, агентов силовых структур РФ, российских добровольцев и наёмников из националистов России. Это не наша тема. Обратим внимание на то, как спекулируют темой работы российский официоз. Восток Украины, Донбасс, Донецкая и Луганская области, промышленные и шахтёрские территории, были объявлены нашими СМИ основными поставщиками средств в бюджет Украины. Запад же Украины однозначно провозглашался дотационными регионами. «Они просто не хотят работать», эти «западэнцы», «бандеровцы» — вопил российский официоз. Прокремлёвскими «экспертами» был четко прочерчен водораздел между тружениками востока, ориентированными на нас, на Россию, на наш русский мир и развращенными либерализмом/«фашизмом» западными украинцами из «дотационных» регионов (тут «фашизм», равно и «антифашизм», следует взять в кавычки, учитывая партийный состав и идейные ориентиры обоих противоборствующих сторон вооруженного конфликта).
Народ, известный нам под прозвищем цыгане и сам себя чаще именующий рома, подвергается дискриминации издавна. Собственно народом рома можно назвать условно: это целая группа этносов, с совершенно разным традиционным образом жизни, исповедующих разные конфессии — разные ветви христианства, язычество, ислам. По языку рома близки друг другу не более, чем разные славянские народы. Пожалуй самым ключевым в определении цыган как единой социальной группы является отношение к ним со стороны живущих с ними по соседству других этносов. Кочевой образ жизни, который некогда был присущ рома, снискал им специфическую репутацию и сделал их своеобразной кастой неприкасаемых в любом обществе внутри или, лучше сказать, возле которого они оказывались. Кочевые ремесленники и артисты, разумеется, не виновны в тех предрассудках, какими их наградило местное большинство. Скорее исключение цыган из системы права, здравоохранения, образования, их незащищенность и сегрегация сделали рома теми, кто оказывается типичными героями истории социальных низов. Клеймо «они не хотят работать» выжжено презрением буржуазного мира на рома как ни на ком другом.
Символично, что французское слово bohème — «цыганщина» — стало в своё время обозначением для нищей творческой интеллигенции, «проклятых» поэтов и художников, чьи творческие эксперименты не находили спроса в на арт-рынке XIX века. В ответ на непризнание творцы нового искусства проклинали вкусы, нормы и ценности буржуазного мира: «Мы — это один мир, буржуазия — другой, враждебный нам» — писал в одном из писем Амадео Модильяни, типичный представитель богемы Парижа [7]. За художниками, между прочим, тратящими немало сил на свои творения, закрепилась такая репутация бездельников, их имидж стал так неотделим от нищеты, дурных привычек, нездорового образа жизни и пр., что теперь в сознании обывателя художник даже не ассоциируется с отдельным ремесленным направлением, скорее художники отделены от ремесла и вообще от производства, нежели участвуют в нем на паритетных правах с прочими ремесленниками (как это, безусловно, было, например, во времена малых голландцев или древнерусских иконописных дружин — производство культурного продукта было особым, но не исключительным и не исключенным ремеслом, даже организованным по цеховым или артельным принципам производства и дистрибуции). «Художник? Он просто не хочет работать!» — можно услышать и сегодня, когда после переворотов в искусстве модерна и постмодерна, лингвистического поворота и прочих потрясений основ классической европейской эстетики, в результате оплодотворения западного искусства завоеваниями колониальных стран мировой арт-рынок вновь подчинён индустрией институций и академий. Производство же большинства товаров уже не мыслимо без огромных вливаний капиталов в дизайн упаковки и рекламы, что даёт и щедрую подработку для тех, кто недавно был бы «анфан терибль». Стереотипы иногда сильнее логики рынка.
Среди того, что подаётся россиянам под лозунгом «они просто не хотят работать», в особом порядке следует рассмотреть представления отечественных либералов о своих же соотечественниках. А именно представления о трудящихся россиянах, а также социально зависимых, пенсионерах и прочем «социальном балласте». И конкретно представления, например, маститого публициста крайне правого крыла русского либерализма Юлии Латыниной или экс-кандидата в президенты РФ, члена российского союза промышленников и предпринимателей Михаила Прохорова. Неоднократно мы видели на страницах оппозиционной печати заявления деятелей русского либерализма о том, что россияне просто мало работают, что бедные сами виноваты в своей бедности, а кремлёвский режим якобы не просто мало сокращает остатки советского «велфера», но наоборот, продолжает содержать изобилие дармоедов. Социальный дарвинизм Латыниной не просто частный случай на общем фоне российского оппозиционного движения. Её взгляды находят широкий отклик в сердцах тех, кто желает видеть Россию европейской рыночной державой со свободной конкуренцией. Немало и тех, кто совсем недавно приветствовал кандидата Михаила Прохорова, предложившего, среди прочего, увеличить рабочую неделю до 60 часов. В процентном соотношении к общему количеству избирателей таковых симпатизантов правого либерализма не много. Но в сравнении с количеством оппонирующих им внутри либерального движения сторонников умеренного социального государства, приверженцев необузданного эгоизма в духе республиканской идеологии большинство. Желание сбросить с себя социальные обязательства перед обществом совершено понятно для представителей определённых классов (в исполнении ряда русских либералов это желание отказаться от социальной ответственности провозглашается через запятую и как бы через тождество вместе с отвержением зависимости от произвола коррумпированной бюрократии). Но данные взгляды в России востребованы и среди тех, кто явно не выдержит конкуренции в декларируемых подобными идеологами условиях. Почему? Это уже вопрос веры, а не рационального расчета.
Экскурс в мир мещанских, националистических, расистских предрассудков и стереотипов позволяет сделать вывод: работа — не просто условие выживания человека при капитализме, но и структурный код идентичности, то, благодаря чему люди делят друг друга на своих и чужих. Мы рискуем впасть в слишком широкие обобщения. Конечно, евреям народная молва русских приписывала и иррациональную, врождённую жадность, кавказцам и в первую руку чеченцам — слишком агрессивный характер, врождённый же темперамент южан, цыганам и азиатам — склонность к преступности и т. д. Отношение к работе здесь, кажется, отходит на второй план. Но именно вспыльчивость, агрессивность, стяжательство и прочие пороки, якобы свойственные именно этим социальным группам делают их представителей теми, кто не способен к нормальной трудовой деятельности. То есть к самой жизни в нашем обществе.
Работа — спасение
Ключевым моментом, сделавшим работу столь важным обстоятельством мировосприятия, стала Реформация. Согласно классической интерпретации Макса Вебера, данной в его работе 1905 года «Протестантская этика и дух капитализма», именно слом старых феодальных систем ценностей сделал возможным нормальное развитие и функционирование буржуазного мира. Прежде всего на смену концепции спасения католицизма пришла кальвинистская идея о том, что успех, прижизненное богатство — если не залог, то показатель того, что душа человека может быть спасена на страшном суде. Мир Средневековья жил ожиданием конца света. Каково могло быть здесь место у работы? «О, безумный человече, доколе углебаеши, яко пчела, собирающи богатство твое? Вскоре бо погибнет, яко прах и пепел: но более взыщи Царствия Божия», — гласит молитва православного покаянного канона. Картина мира, насаждаемая католической церковью, рисовалась в тех же красках и с тем же основным мотивом и целеполаганием. Эта экзистенциальная предрешенность не совместима с накопительством, стяжательством, расчетливостью буржуазного мира. Человек того времени, согласно исследователю средневековья Жаку Ле Гоффу, ставил целью жизни произвести наибольшее впечатление (может быть, чтобы насладиться коротким веком, может быть, чтобы снискать себе оправдание на страшном суде — отсюда и аскеза монахов, и расточительство королей и аристократии). Но прибыль здесь — хотя бы на уровне культурных кодов, на уровне того, что руководит сознанием субъектов экономики, — вовсе не была на первом месте.
Переворот происходит вместе с распространением кальвинизма — сперва в Европе а потом и во всем мире, вслед за колониальным влиянием. Буржуазия существовала и до глобального торжества капитализма, и не только в Европе: купцы, ростовщики, торгово-ремесленные сословия — всё это имело место уже в Античности, если не в Древнем Мире. Но именно Реформация и именно в западной Европе породила систему ценностей, исключительное место уделяющую предпринимательству и труду как залогу и/или симптому спасения. Протестантизм воспринимает мир фактически уже погибшим, а не ожидающим конца. Это и делает его столь удобным для мировоззрения буржуазного сословия: мир во всех его аспектах можно рассматривать, как «мёртвое», добычу, ресурс.
Работа — проклятие
«В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься», — с этими словами бог Ветхого Завета изгоняет Адама из Рая. Русское слово «крестьянин» появилось благодаря отождествлению земледельческого труда с христианским мученичеством, самопожертвованием, очищением через страдание.
Общество, ненавидящее работу и признающее её не только условием выживания, но и симптомом здоровой социализации, одержимо противоречивым, ложным сознанием. Корни этой идеологии можно найти в Ветхом и Новом Завете, можно копнуть глубже, обнаружить презрение к материальному труду в античном греческом обществе, которое дало нам большинство точек отсчета, инерций философской мысли. Слияние этих двух корней у основания европейской цивилизации дало то представление о работе, которое распространено и поныне.
Пожалуй, если не осмысление, то ощущение бессмысленности значительной части работы является уже общим местом современной культуры. Эти эмансипаторные интуиции находят отражение в самом широком спектре литературы. Вспомним контрабасиста большого симфонического оркестра из пьесы Патрика Зюскинда «Контрабас», который ненавидит и обожает свой инструмент, видит в нем свою судьбу и своё проклятие. Для контрабаса, по мнению этого музыканта (владельца и раба инструмента), написано так мало сольных партий в симфонической музыке, что он является чем-то вроде пролетарского орудия необходимого, но всеми презираемого труда. Вспомним почтальона из романа Абэ Кобо «Женщина в песках»: фатальное восприятие труда как отвратительной, но жизненно важной рутины. Примеров слишком много, чтобы попытаться даже перечислить их здесь. А ведь некогда классовое сознание или переживание его отсутствия были едва ли не главным признаком критического произведения. Обаяние бедности, очарование простой незамысловатой жизни, а главное, то, что уместно здесь назвать правдой пролетариата, кажется рудиментом в современной литературе. Попробуем представить себе во вновь сошедшем с печатного станка, новом, современном тексте, критикующем современное общество, того пролетарского или крестьянского героя, какой был воспет на разный манер во всевозможных образах и на разных языках Брехтом, Горьким, Гашеком, Оруэллом, Ремарком, Хемингуэем и сотнями других мастеров слова. Каковы бы ни были нюансы сюжета или идеи той старой литературы, которая некогда считалась прогрессивной, в ней всегда присутствовал пафос правды пролетариата (труженика). Этот пафос или воплощается главным герем-пролетарем, или, чаще, присутствует в виде модернистской тоски героя, находящегося на периферии производства, выключенного из процесса (или не вовлеченного должным образом в процесс) как производства, так и классовой борьбы, либо он перевоплощён в иронию, сарказм над тем самым паразитирующим, развращенным бездельем классовым врагом пролетария. Правда пролетариата, будь она фоном основного сюжета текста, будь она главной сюжетной линией, будь она всего лишь одной из упомянутых вскользь морально-этических установок автора, — правда пролетариата безусловна, аксиоматична для большинства литературных текстов, связанных с критическим искусством, реалистическим мировосприятием. Идейное влияние большого освободительного проекта марксизма было ощутимо даже за пределами собственно марксизма.
«Если есть надежда, то она в пролах» — произносит герой «1984» Оруэлла. Эпитафией на надгробии этого модернистского освободительного проекта служит граффити Красного Мая 1968 года на одной из стен Латинского квартала в Париже: «Наша надежда — в полной безнадежности».
Генеалогия бунтарского безделья
Как уже было сказано, «Работа» краймфинкеров — далеко не первое сочинение против работы. Духом переосмысления работы пропитана вся антиавторитарная левая мысль — в спектре от критики иррациональности устройства производства до полного отрицания целесообразности принудительного, регулярного и дисциплинированного труда.
Высококвалифицированный скандалист Боб Блэк посвятил отказу от работы одноимённое эссе (The Abolition of Work), а этнолог Дэвид Грэбер посвятил этой теме главу «Отрывка анархической антропологии» (которая, будучи одной из последних глав, приближает нас к выводам автора): «Борьба против работы всегда была центром анархической организации. Под этим я подразумеваю не борьбу за лучшие условия труда или более высокую заработную плату, а борьбу за полное устранение работы как отношений господства. Отсюда слоган ИРМ — «против системы наёмного труда». Это, конечно, долгосрочная цель. В ближайший период то, что не может быть уничтожено, может быть по крайней мере сокращено. На рубеже XX века вобблис [8] и другие анархисты сыграли центральную роль в завоевании рабочими пятидневной рабочей недели и восьмичасового рабочего дня». Подробнее Грэбер пишет об этом в статье «О феномене бесполезных работ». Показательно, что в оригинале статья известного ученого называется On the Phenomenon of Bullshit Jobs: группа анархистов, переводившая текст на русский язык, несколько смягчила тон, и для крепкого, недостойного палаты общин или лордов английского bullshit нашла в нашем великом и могучем лишь скромный аналог «бесполезный». Эта оговорка, возможно, обнаруживает, что пока в нашем языке, левом дискурсе, отрицание работы не имеет того пафоса, той остроты, как на западе. По существу, критика Грэбера касается иррациональности организации производства и дистрибуции социальных благ, а также — здесь этнолог действует на своём профессиональном поле — критике подвергаются иррациональные социальные ритуалы современной экономики, ритуалы, которые конструируют иерархию. Смыслом индустрии, всего процесса производства и реализации товаров и услуг является не удовлетворение потребностей, а получение прибыли. Тут автор не оригинален. Но этнолог и анархист Грэбер справедливо указывает на подлинную бессмысленность целого ряда профессий и занятий для блага человечества. Борьба против работы сводится для Грэбера к её тщательной ревизии, рационализации, к сокращению рабочего дня до 3-4 часов, к уничтожению ненужных профессий, преодолению всех тех родов деятельности, которые служат самоутверждению, вскармливанию амбиций и выстраиванию неравенства: «Как можно говорить о гордости за свой труд, когда в глубине души ты чувствуешь, что твоя работа не нужна? Как могут не возникать чувства негодования и скрытой злости? Злой рок нашего общества заключается в том, что его правители нашли способ перевести нашу ярость именно на тех, кто занят по-настоящему полезной работой, как в случае с обжарщиками рыбы. Как будто в нашем обществе действует глобальный закон: чем более явно выражена польза от работы какого-либо человека для других людей, тем меньше ему за это платят. Позволю повториться, трудно оценить объективный масштаб проблемы, но есть смысл поставить вопрос: “что произойдет, если весь этот класс просто исчезнет”?» [9].
Боб Блэк, будучи представителем более субкультурно-богемного крыла постмодернистских левых (постлефтизма), идёт дальше профессора Грэбера и призывает отказаться от работы как таковой, а не просто от части лишних трудочасов. Рутинность, повторяемость, дисциплина, узкая специализация, одностороннее развитие специалиста, подавление творческого начала в угоду конъюнктуре рынка, стандартизации товаров и услуг — все эти свойства, лежащие в основе работы, делают её несовместимой с жизнью свободной личности. Классические левые стремятся к отмене частной собственности, к передаче производства под контроль рабочих (во всяком случае так они об этом говорят, хотя в реальности власть над экономикой после революции опять остаётся в руках профессиональных управленцев) и/или к сокращению рабочего дня. Постлефтисты вроде Блэка призывают отказаться от работы вообще. Блэка не удовлетворяет идея о том, что в освобождённые от работы часы досуга человек будет свободен отдыхать и самосовершенствоваться. Уже и малой толики работы хватит, чтобы отравить несвободой всё остальное бытие человека: «Я совершенно не хочу играться определениями. Когда я говорю, что призываю к упразднению работы, я имею в виду ровно то, что говорю — но я хочу высказать то, что имею в виду, используя термины, очищенные от побочных ассоциаций. Мое минимальное определение работы — принудительный труд, иными словами, недобровольная производительная деятельность». Автор концепции упразднения работы предлагает организовать производство по принципам игры. Не стоит принимать это предложение как призыв к расширению досуга за счет сокращения трудочасов. Досуг — только восстановление после изнуряющего или отупляющего труда. Игры объединяют производство, потребление, общение, учебу, упражнения и саморазвитие. Это почитание игры в качестве альтернативы труду — один из излюбленных пунктов примитивизма. Анархо-примитивизм вдохновлён рядом этнографических наблюдений (почерпнутых из полевых исследований, а иногда и выдернутых из контекста отдельных сочинений) за наиболее архаичными обществами, где труд и ритуал, магия и охота, праздник и будни были не разделены. При этом примитивисты нередко возводят частные случаи в ранг политической парадигмы. А ведь крупнейшего из их среды ученого Маршала Салинза это даже заставило говорить о первозданном обществе изначального изобилия [10]. Примитивизм — скорее настроение, нежели идеология или философия: желание уйти от репрессивного мира работы бросает одних в стихию уличной конфронтации с символами капитализма, других толкает к строительству разнообразных кооперативных проектов и коммун на периферии цивилизации или вне её.
Низвержение работы с высот расправившего плечи освобожденного человеческого духа имеет давнюю традицию. Американский социолог Кристофер Лэш в своей книге «Восстание элит» уделил внимание такому исключительному и экзотическому левому теоретику как Оскар Уайльд.
Политическая мысль знаменитого писателя отражена прежде всего в его книге «Человеческая душа при социализме». Современники отнеслись к сочинению Уайльда иронично-скептически. Потомки предпочитали не замечать. Скорее всего, на эпатаж он, как всегда, и рассчитывал. И не прогадал. Образно говоря, Уайльд стал чем-то вроде родственника с дурной репутацией в и без того весьма недружной семье левых теорий и философий. Кристофер Леш попытался реабилитировать Уайльда в качестве революционного теоретика, он даже озаглавил финальную главу (фактически эпилог) своей книги «Человеческая душа при секуляризме», отсылая читателя к названию уайльдовского памфлета. В критике современного ему капитализма Уайльд отталкивается скорее от Ницше, нежели от Маркса или Прудона. Буржуазное общество безобразно именно в эстетическом смысле, оно развращает низы тяжким отупляющим трудом, а верхи скучной, обременительной заботой о сохранении власти и собственности. Важнейшими мерами для изменения ситуации Уайльд считает:
- избавление от ручного труда за счет всеобщего перехода к машинному производству;
- триада: социализм, коммунизм и, превыше всего, Индивидуализм (с большой буквы в написании самого Уайльда), понимаемый как залог «полного развития Жизни на пути к наивысшему совершенству»;
- уничтожение частной собственности, причем необходимое как для преодоления нищеты одних, так и для искоренения развращающего, отупляющего образа жизни, скупости и озабоченности сохранением господства других.
Для романтика Уайльда герой истории, истинный бунтарь и преобразователь мира — вовсе не рабочий, а артист, творческая личность, ищущая самовыражения и не находящая его в мещанском обществе и поэтому обреченная на конфликт с этим обществом. Как примирить амбиции самовыражения творца с коммунизмом, коллективной собственностью и ответственностью, из сочинения великого ирландского романтика не ясно. В целом, логически, такая концепция освобождения не противоречила бы и классическому марксизму и тем более анархизму, если бы только Уайльд не уделял столько внимания эстетическим и этическим моментам, что делало его уязвимой мишенью для критики ортодоксальных левых, видевших в нем маргинала, взбесившегося представителя богемы.
Кристофер Леш полагает, что, несмотря на свой художественный характер, программа Уайлда прошла не столь бесследно: «В 1960-х годах революционные студенты брали на вооружение лозунги, по духу куда более близкие Уайльду, нежели Марксу: “Вся власть – воображению”; “Запрещать запрещено”. Неизменная притягательность подобных идей даже тридцать лет спустя не может не быть очевидна для любого, кто имеет в виду университетскую среду и современные медиа. Так называемое “постмодернистское” настроение определяется, с одной стороны, крушением иллюзий по поводу грандиозных исторических теорий, или “метанарративов”, включая марксизм, и, с другой стороны, идеалом личной свободы, который во многом идет от эстетического бунта против культуры среднего класса. Постмодернистский вкус отвергает многое и в модернизме, но он коренится в модернистском идеале индвидуумов, эмансипировавшихся от условностей, создающих собственную идентичность по своему выбору, ведущих свои собственные жизни (как сказал бы Оскар Уайльд), как если бы сама жизнь была произведением искусства» [11].
Идеи Уайльда нашли отклик в Ситуационистском Интернационале. Одним из немногих, кто прямо ссылается на «Человеческую душу при социализме» является «последователь» СИ Кен Нэбб в своей книге «Радость революции». «Последователь» в кавычках, так как ситуационисты отвергли всех своих последователей: «…ситуационизм — это идеология, которую ситуационисты единодушно отвергали», — вспоминал в беседе с журналом e-flex один из основателей СИ Рауль Ванейгем [12]. В том же интервью, данном через 30 лет после распада СИ и менее чем через год после начала последнего кризиса, нестареющий бунтарь дал суровую отповедь и современному финансово-спекулятивному капитализму, и его защитникам-политикам, а также попытался дать рецепты/прогнозы выхода из кризиса:
«Морализация прибыли — это иллюзия и жульничество. Должен произойти решительный разрыв с экономической системой, которая последовательно распространяла разрушение, одновременно с этим притворяясь посреди всеобщей нужды, что она обеспечивает благосостояние, которое на самом деле не более чем воображаемое. Человеческие отношения должны вытеснить и свести на нет коммерческие отношения. Гражданское неповиновение заключается в том, чтобы не обращать внимания на решения правительства, которое растрачивает средства своих граждан, чтобы покрыть потери финансового капитала… Аграрная экономика «старого режима» была окаменевшей формой, которую начиная с революции 1789 года разбила растущая экономика свободной торговли. Подобным же образом, барахтающийся в акциях спекулятивный капитализм, падение которого мы сейчас наблюдаем, вот-вот сменится капитализмом, который будет вновь оживлён производством незагрязняющей природу естественной энергии, возвращением к потребительской ценности, органическим сельским хозяйством, спешно залатанным государственным сектором и лицемерной морализацией торговли.
Будущее принадлежит самоуправляющимся сообществам, которые производят незаменимые товары и услуги для всех (природная энергия, биологическое разнообразие, обучение, центры здоровья, транспорт, металлургическое и текстильное производство…). Идея в том, чтобы производить продукты для себя, для собственного пользования — то есть больше не ради продажи, — вместо товаров, которые мы в настоящий момент вынуждены покупать по рыночным ценам, хотя они были придуманы и изготовлены такими же работниками, как и мы. Пришло время порвать с законами политических вымогателей, которые наряду со своим собственным банкротством готовят и наше» [13].
Как именно будет налажено производство, мотивация и поощрение участников и взаимодействие внутри потребительских сообществ, не совсем ясно из этого короткого комментария на полях кризиса. Для Ванэйгема, как и для CrimethInc, слово «экономика» — ругательство. Не в изначальном значении греческого слова («домохозяйство»), конечно. В русле ситуационистской критики/практики отрицание работы играет огромную роль. Идейное влияние Ситуационистского Интернационала до сих пор весьма ощутимо. Хотя зародились они в совершенно ином социальном ландшафте: годы активности СИ приходятся на послевоенное время — один из самых длительных периодов экономического роста на Западе. Капитализм тогда стремительно трансформировался. Стремление реализовать изобилие товаров породило «государство всеобщего благоденствия». По мнению Ги Дебора, главная проблема для современной ему экономики — потребление — порождает феномен Спектакля. Работу, похищающую значительную часть времени и становящуюся предметом озабоченности людей, можно назвать одной из ипостасей Спектакля в эпоху перепроизводства. К тому же, как уже указывалось выше, само потребление может уподобиться работе.
Одновременно с ситуационизмом зародился и другой фронт борьбы против работы — автономизм. Среди западных марксистских активистов росло недовольство реформистскими тенденциями местных компартий (т. н. «еврокоммунизм»), были недовольные и бюрократизмом СССР. Одни уходили в симпатии к маоизму и чегеваризму, видели социальную базу в трудящихся «третьего мира». Другие, кто пытался подойти к критике современных западных обществ творчески, без догм, сталкивались с тем, что эти общества совершенно не могут быть преобразованы посредством лишь захвата средств производства. Акции саботажа, остановки производства на занятых фабриках, разрушение машин и целых цехов сопровождали борьбу рабочих автономистов Италии. Идейные поиски на поле марксизма привели многих к его полному переосмыслению, иногда даже к отрицанию. А вместе с угасанием влияния марксизма исчезало и всё очарование исторической миссией пролетариата. В интервью 1983 года известный левый философ и общественный деятель Корнелиус Касториадис говорил о своём разочаровании в марксизме и переосмыслении целей и средств социальной борьбы: «Я приведу наиболее знакомый мне пример: самого себя. Когда я начал писать о самоуправлении, коллективном управлении производством и общественной жизнью — в первом номере журнала “Социализм или варварство” за 1949 г., — я был марксистом. Я думал, что коллективное рабочее самоуправление — необходимая конкретизация марксистской концепции социализма. Но вскоре, когда я захотел развить эту идею в “Продолжении социализма” после 1955-го, я заметил, что идея самоуправления глубоко несовместима с Марксом, и Маркс, в этом смысле, ничему не может “послужить”.
Когда мы стремимся развить идею рабочего управления, управления производством самими производителями, мы очень быстро сталкиваемся с вопросом техники. Об этом Маркс ничего нам не скажет. Какая критика капиталистической техники есть у Маркса и марксистов? Ее не существует. Они критикуют исключительно похищение прибыли капиталистами, сама техника остается вне дискуссий.
Есть ли у Маркса критика организации капиталистического завода? Нет. Конечно, он разоблачает ее наиболее бесчеловечные, наиболее жестокие аспекты. Но для него эта организация является истинным воплощением рациональности, и к тому же она полностью и неизбежным образом продиктована состоянием техники, поэтому ничего менять не нужно. Из этого он делает вывод, что производство и экономика навсегда останутся исключительно областью необходимости, и что “царство свободы” можно построить лишь вне этой области, сократив рабочий день. Иначе говоря, труд как таковой есть рабство и никогда не станет полем раскрытия творческих способностей человека.
Фактически, современная техника прекрасна в качестве полностью капиталистической, она не нейтральна. Она создана для специфически капиталистических целей, и это не только увеличение прибыли, но и устранение той человеческой роли, которую играет человек в производстве, порабощение производителей безличным процессом производства. Исходя из этого, пока эта техника преобладает, нельзя говорить о самоуправлении. Самоуправление сборочным конвейером рабочими конвейера – печальная насмешка. Чтобы достичь самоуправления, надо разбить конвейер. Я не призываю со дня на день разрушить все существующие заводы. Но революция, которая немедленно не атакует вопрос сознательного изменения техники, чтобы переделать ее и позволить людям, т.е. индивидам, группам, трудовым коллективам, получить доступ к управлению процессом производства, такая революция вскоре обречена на погибель. Ибо люди, которые шесть дней в неделю работают за конвейером, не способны, как того хотел Ленин, насладиться воскресеньем советской свободы.
Маркс не создал этой критики техники и не мог ее создать. И это глубоко связано с его концепцией истории: подобно Разуму или Мировому Духу у Гегеля, у Маркса историю движет исключительно воплощенная в технике рациональность. Поэтому, если мы хотим направить мысль на достижение самоуправления, автономии, само-правления (autogouvernement) человеческих коллективов, Маркс и марксизм — громадные массивные глыбы, стоящие на нашем пути» [14].
Как именно будет налажено производство, мотивация и поощрение участников и взаимодействие внутри потребительских сообществ не совсем ясно из этого короткого комментария на полях кризиса. Для Ванэйгема, как и для CrimethInc слово «экономика» — ругательство. Не в изначальном значении греческого слова («домохозяйство») конечно. В русле ситуационистской критики/практики отрицание работы играет огромную роль. Идейное влияние ситуационистов до сих пор весьма ощутимо. Хотя зародились они в совершенно ином социальном ландшафте. Годы активности СИ приходятся послевоенное время — на один из самых длительных периодов экономического роста на Западе. Капитализм тогда стремительно трансформировался. Стремление реализовать изобилие товаров породило «государство всеобщего благоденствия». По мнению Ги Дебора, главная проблема для современной ему экономики — потребление — порождает феномен Спектакля. Работу, похищающую значительную часть времени и становящуюся предметом озабоченности людей, можно назвать одной из ипостасей Спектакля в эпоху перепроизводства. Плюс, как уже указывалось выше, само потребление может уподобиться работе.
Критику работы обусловили не только встреча социальных причин (широкое распространение фрустрации общества) и активистского поиска левых своей актуализации вне пролетарской традиции. Весь ход развития гуманитарных наук и философии подготовил переосмысление общественных процессов и социальной борьбы внутри них. Упомянутая выше гегельянская идея истории даже в редакции Маркса многим левым не казалась исчерпывающей. Вышеприведённая цитата из Касториадиса — свидетельство влияния на левую мысль структуралистских идей. Обратим внимание, что о производстве, о технике, о борьбе философ говорит именно структуралистским языком.
На месте встречи постструктурализма и анархизма появляется постанархизм. Мишель Онфре в сочинении «Постанархизм, растолкованный моей бабушке» [15] пишет: «Какой руководящий принцип постанархизма? Категорический императив? Его утопия, иначе говоря, идеал разума? Точка, к которой все идет? Определяющая максима? Формула? Эта удивительная фраза Ля Боэси является сутью политической мысли “Рассуждения о добровольном рабстве”: “Наберитесь смелости больше не служить, и вот вы свободны”. Ведь увольнение не приходит из какого-то другого места, чем от желания тех, кто его предпочитает. Увольнение — это не афера, которая переносит все на завтра, на мифический канун триумфа революции, оно не падает с неба в подарок от эксплуататоров. Оно не предусматривает благочинства капитализма или милосердия господ. Оно не возникает, когда вдруг совпадают гипотетические обстоятельства истории. Оно не зависит от действия образованного пролетарского авангарда. Оно не наступает благодаря восстанию субпролетариев в лохмотьях, которые наконец взбунтовались. Оно приходит, потому что отказываются давать власти то, что ей обычно дают, чтобы она существовала» [16].
Критика, отрицание работы, а с ней и всей дисциплинарной индустрии и культуры, — источник вдохновения для повстанческого анархизма (т. н. «инсуррекционизма»). Уместно вспомнить в связи с этим постситуационистский текст «Грядущее восстание» коллектива «Невидимый комитет».
Нигилистский пафос «Невидимого комитета» — наследственная черта их предшественников на французской левой сцене — ситуационистов. «Грядущее восстание» более ориентировано на анархическую традицию и практику, чем на постмарксистскую философию СИ. «Невидимый комитет» говорит с аудиторией на более популярном демократическом языке. Воспетая в «Грядущем восстании» коммуна пытается уже практикой своего существования, образом жизни, а не разовыми «акциями-ситуациями», открыть дорогу эксперименту социальной альтернативы. Ненависть к цивилизации и воспевание стихийных бунтов в парижских ситэ, опыт конфронтации черного блока с полицией на альтерглобалистских демонстрациях и отрицание всей системы индустрии, разрушающей экологию, — всё это стало активистским взрывоопасным багажом «Невидимого комитета».
«Грядущее восстание» прямо призывает к разрушению наёмного труда. Работа не есть способ жизнеобеспечения. Способов найти для себя и ближнего хлеб и кров у «Невидимого комитета» немало и без работы: «Грабьте, выращивайте, изготовляйте!», «Организуйтесь, чтобы не нужно было зарабатывать!», — дают советы французские бунтари. Работа для НК — это не производство в чистом виде. Это и производство, и дисциплинарная практика контроля, и способ занять людей «чем-нибудь», чтобы не было с ними лишних проблем, и практика одурачивания и способ подчинить энергию, мысли, время, волю, даже (и не в последнюю очередь!) сексуальность человека через его интеграцию в большую машину индустрии: «…с одной стороны, современный аппарат производства — это гигантская машина психической и физической мобилизации, высасывания энергии из человеческих существ, ставших избыточными. С другой стороны, это машина селекции, которая предоставляет право на выживание лишь субъективностям, соответствующим норме, и оставляет на произвол судьбы “опасных индивидов”, всех тех, кто сопротивляется ей, воплощая собой иной образ жизни. С одной стороны, мы подкармливаем призраков, с другой стороны, оставляем подыхать живущих. Такова собственно политическая функция современного аппарата производства. Организовываться вне наемного труда и против него, коллективно выходить из режима мобилизации, проявлять жизнеспособность и дисциплину в самом этом процессе демобилизации — вот в чем наше преступление, которое цивилизация не готова нам простить. И вот в чем единственный способ выжить после ее краха [17].
Перед нами достаточно пёстрая картина идей, наблюдений, лозунгов, научных фактов и политических программ. Подчеркну, большая часть затронутых текстов носит публицистический характер. То есть они призваны убеждать, а не доказывать. Очевидно, что собственно научной проблемой критика работы быть и не может. Само научное исследование является работой. Наука (в лице ученых) может и должна задумываться о границах своих возможностей и о морально-этических сторонах, о своей роли в обществе, о последствиях для человечества. Об этом наука может сказать немало. Факт биологии — растущий вред, наносимый планете со стороны человеческой индустрии. Факт социологии — массовое недовольство, фрустрация людей, считающих, что они занимаются не своим делом.
Затрагивая вопросы хозяйства, критика работы должна была бы прийтись более по вкусу сторонникам альтернативной экономики, нежели сторонникам подпольной борьбы, саботажа. Но именно в таких практических аспектах отрицание работы пока должным образом не разработано. Символично, что, например, та часть памфлета «Работа» CrimethInc, что посвящена альтернативам и выходам, значительно меньше негативно-критических частей. Сегодня нужны тексты под заглавием «Вне работы», «Ни слова о работе». И это в значительной степени инженерная задача — разработка такой системы отношений машин, техник, практик, которые создавали бы достаточно товаров для более простого и разнообразного удовлетворения потребностей. Но техника — лишь средство и форма, а цель и смысл мира вне работы — сам человек. И как ни банально это звучит, построение системы отношений между людьми вне работы возможно лишь при условии рефлексии о психологии человеческих отношений, с учетом рассуждений философии о смысле человеческой жизни. А также — и это главное — такая система отношений возможна лишь при условии создания устойчивых самоорганизованных низовых и сетевых инициатив.
Примечания:
[1] http://zashitalmz.narod.ru/materiales/materiales_docs/mat11.htm#_Toc116717200
[2] http://www.monde-diplomatique.fr/2011/06/CORDONNIER/20700
[3] Мысли, афоризмы и шутки знаменитых мужчин (изд. 4-е, дополненное) / составитель Душенко К. В. — М.: Эксмо, 2004.
[4] www.youtube.com/watch?v=5UYx5yPyE3Y
[5] Фуко М. Нужно защищать общество. Спб., «Наука», — 2005, С. 66
[6] Опубликованных в книге «Нужно защищать общество».
[7] Цитируется по книге Виленкин В.Я. «Амадео Модильяни» //Издание второе, исправленное и дополненное — Москва: Искусство, 1989
[8] Вобблис (Wobblies) — другое название членов профсоюза Индустриальные рабочие мира (Industrial Workers of the World, IWW — русская аббревиатура ИРМ)
[9] http://anarhobarnaul.org/bullshitjob/
[10] Машал Салинз «Экономика каменного века». М.: ОГИ, 1999
[11] Лэш К. Восстание элит и предательство демократии М.: Издательство “Логос”, Издательство “Прогресс”. 2002. C. 185
[12] https://avtonom.org/news/intervyu-s-raulem-vaneygemom-mezhdu-mirovoy-skorbyu-i-radostyu-zhizni
[13] https://avtonom.org/news/intervyu-s-raulem-vaneygemom-mezhdu-mirovoy-skorbyu-i-radostyu-zhizni
[14] http://avtonom.org/old/lib/theory/castoriadis/marx_today.html
[15] http://avtonom.org/pages/mishel-onfre-postanarhizm-rastolkovannyy-moey-babushke
[16] Мишель Онфре: «Постанархизм, растолкованный моей бабушке»// https://avtonom.org/pages/mishel-onfre-postanarhizm-rastolkovannyy-moey-babushke
[17] Грядущее восстание. М.: Ультракультура 2.0, 2011 С.30