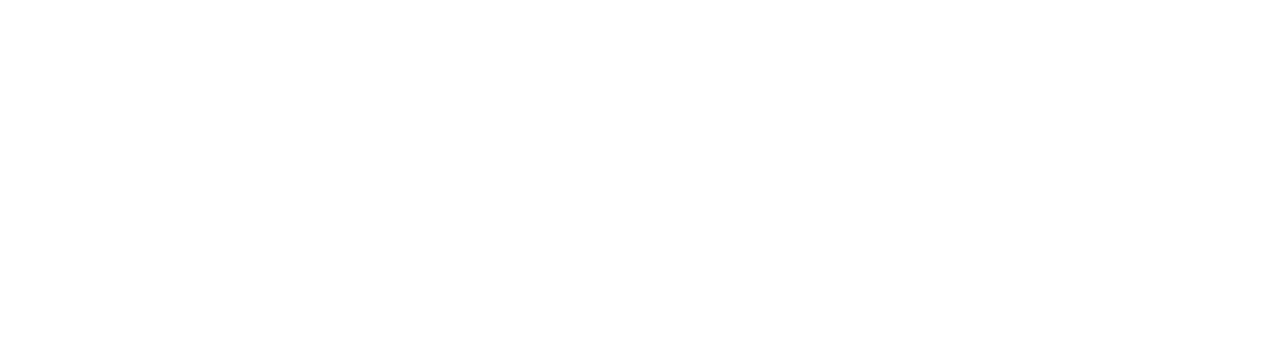Привет! На этой странице кооператив РТП проводил сбор на книгу Марии Рахманиновой «Власть и тело». Краудфандинг мы начали 14 апреля, и уже к 4 мая мы смогли собрать необходимую для подготовки книги сумму. По плану книга должна выйти из печати в конце июня. Увидеть шаги подготовки и издательские затраты вы можете здесь на шкале.
Прочесть о книге побольше и сделать предказаз
О своём подходе и о подготовке этого труда авторка рассказывает в интервью, опубликованном чуть ниже.
Сбор завершён! За три недели удалось собрать 113 508 рублей. Это позволит нам издать книгу «Власть и тело», и вам — уже в скором времени её прочесть.
Большое спасибо вам за вашу поддержку!
[cool-timeline layout=»horizontal» skin=»default» show-posts=»8″ date-format=»F j» icons=»NO» animation=»none» order=»ASC» ]
[sp_easyaccordion id=»11521″]